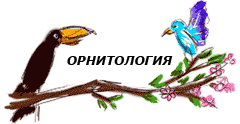
Каракуль
Теплое тропическое небо, ласковый шелест пальм, золотой песок гавайских пляжей, сверкающая гладь океана... Под громоподобный рев прибоя на длинных, переливающихся изумрудом грядах волн в клочьях белой пены стремительно несутся к берегу стройные фигуры людей, покрытые золотистым загаром...
...Резкий порыв ветра возвращает меня к действительности, едва не вырвав книгу из рук. В лицо полетели холодные соленые брызги. Шторм и не думает стихать.
Я осторожно выглядываю из-за прибрежного бугра, где, спасаясь от ледяного ветра, жду погоды и путешествую с Джеком Лондоном на «Снарке». Эх, старина Джек, тебя бы сюда! Озеро кипит. Его огромная ультрамариновая поверхность потемнела и стала рябой от вспыхивающих и гаснущих белых барашков. Над озером повисла дымка, делающая неясными очертания берегов. Это мелкий песок, который ветер несет с гор, с того берега. Ярко-желтые, коричневые и красные склоны окружающих хребтов, без единого пятна зелени, увенчаны белыми шапками вечных снегов. Редкие клочья облаков несутся по синему небу; кажется, что это куски снежных вершин, сорванные яростным ветром. Прямо над головой - маленькое и холодное солнце, хотя и сверкает оно ослепительно, куда сильнее, чем над Ленинградом. Наверное, так же выглядит солнце на Марсе. Да, опять пропадает день...
Шторм длится третьи сутки, и третьи сутки нет никакой возможности сделать то, для чего я, собственно, прибыл, затратив столько усилий, на пустынные берега бухты Музкол, в южный угол огромного Каракуля. Моя цель - остров Южный.
Это целая гора, которая торчит из воды в трех километрах от берега. Туда по вечерам улетают стаи бакланов, буроголовых чаек и горных гусей. В моем воображении рисуются громадные колонии этих птиц, мне кажется, что они должны быть именно там, вдали от берега, на необитаемом острове Южном. Но мое снаряжение - резиновая лодка, оснащенная двумя веслами и спасательным кругом,- малопригодно на штормовом Каракуле. Несколько раз в шторм я пытался отчалить от берега, но лодку неизменно вышвыривало в прибой. А когда после ожесточенной борьбы с ветром мне удалось отплыть от берега метров на сто, лодку чуть не перевернуло. Крутая волна задрала ее нос вверх, а порыв ветра ударил в днище, как в парус.
Не упади я всем телом на нос, была бы мне ледяная баня в этой, такой голубой и такой соленой воде...
В это лето я всерьез занялся птицами, обитающими на памирских озерах. Этих птиц немного: горный гусь, огарь, большой крохаль, тибетская крачка да буроголовая чайка. Именно из-за буроголовой чайки я выбрал для работы озеро Каракуль. Родина этой птицы - Тибет, и в нашей стране она обитает только на Памире. Здесь ее встречали на всех крупных озерах, но гнездится она, видимо, только на двух - Каракуле и Зоркуле. Гнезд их в пределах нашей страны еще никто не находил. Мне впервые удалось сделать это летом 1961 года: во время разведывательной поездки на Каракуль я нашел на одном из небольших островков небольшую колонию из четырех гнезд, два из них, только что построенные, еще пустовали. Однако большое количество чаек на озере ясно указывало, что где-то здесь должна быть большая колония, и мне казалось, что она скорее всего расположена на острове Южном.
Каракуль - самое большое озеро Памира; площадь его водного зеркала 364 квадратных километра, максимальная глубина 236 метров! По размерам и по высоте над уровнем моря (3914 метров) Каракуль уступает только озерам-гигантам южного Тибета. Расположенное на дне огромной, бессточной ныне котловины, оно имеет горько-соленую воду.
Когда озеро спокойно, цвет его изумителен - густой ультрамарин, на менее глубоких местах переходящий в зеленоватый цвет океана. Вода совершенно прозрачна, и, стоя в тихую погоду на какой-нибудь вершине над озером, можно ясно видеть распределение его глубин. Но штиль на Каракуле - редкое явление. Бывает он обычно утром и длится недолго. Потом с ледяных гребней Заалая срывается холодный норд. Вздымая тучи песка и пыли, он обрушивается на озеро и бушует беспрерывно до следующего рассвета, нередко не утихая по нескольку дней.
Озеро не всегда было бессточным. Около ста тысяч лет назад, после первого Великого оледенения, оно было гораздо больше, занимало почти всю огромную котловину и имело сток в долину реки Кокуйбели. О былом уровне озера красноречиво свидетельствуют белые полосы древних прибойных линий, четко обозначенные на склонах сбегающих к озеру хребтов в нескольких десятках метров выше современного уровня. А на былую связь с бассейном Кокуйбели указывают немногочисленные рыбки-гольцы, ютящиеся в устьях впадающих в озеро небольших речек; вода в этих устьях более или менее пресная. Они принадлежат к тому же виду, который водится в Кокуйбели, хотя несколько изменились с тех пор, как озеро потеряло связь с рекой.
Каракульская впадина - тектонического происхождения и образовалась во время мощных тектонических движений, охвативших Памир в начале четвертичного периода. Впадина постепенно заполнялась водой, пока не образовалось огромное озеро. Сейчас оно разделено на две неравные части островом Северным, протянувшимся от северного берега озера к южному и отделенным от берегов двумя узкими проливами. Сравнительно недавно, еще в конце прошлого века, Северный остров был полуостровом и соединялся с берегом узким перешейком. Теперь перешеек исчез. Его исчезновение связано с интересной особенностью Каракуля.
Дело в том, что на значительном протяжении берега озера покоятся на льду. Лед залегает и на дне озера. О происхождении его до сих пор идут споры. Одни думают, что это остатки ледников, которые во времена наиболее сильного оледенения вторгались прямо в озеро; другие считают его остатками ледяного щита, заполнявшего котловину опять-таки в ледниковый период. Наконец, третьи считают как погребенный в берегах, так и донный лед образованиями современными, что, кажется, более соответствует истине. Но как бы то ни было, берега озера покоятся на льдах. Льды постепенно тают, в них образуются провалы, проливы, озерки, от берегов отделяются островки - и озеро постепенно увеличивается в размерах. (Правда, существует, видимо, и другая, тектоническая, причина постепенного увеличения размеров озера, связанная с современными движениями его дна.)
Каракульская котловина примечательна еще тем, что это самое пустынное место Памира. Здесь выпадает меньше всего осадков, что-то около двадцати миллиметров в год.

Бесплодная пустыня Маркансу
В непосредственной близости от котловины расположена знаменитая долина Маркансу. Это название одни переводят как долина Смерчей, другие - как долина Смерти, но правильнее переводить его - мертвая вода. Почему ее так назвали, сказать трудно. Вода в русле обычная, хотя и течёт здесь только в июле. Видимо, дело в том, что раньше участок древней памирской тропы, вместо которой сейчас проложен тракт, был на Маркансу самым трудным: ледяные непрерывные ветры, крайняя сухость атмосферы, безводье, пески, большая высота; к тому же долина была первой на пути путников, попадавших на Памир через Кызыларт, и контраст с оставленными только что благодатными долинами Алая был особенно велик. А для вьючных животных Маркансу также была первым на Памире и иногда непосильпым испытанием, и гибли они здесь особенно часто. Да и выглядит долина довольно мрачно, и смерчи здесь крутят, говорят, чаще, чем где-либо на Памире. Потому, видимо, и повелось считать, что на Маркансу «нечисто». Кстати, гибнут здесь не только домашние животные, но, бывает, и дикие. Одна экспедиция наткнулась весной на целое стадо павших архаров, как бы внезапно застигнутых смертью. Неподалеку валялось несколько дохлых волков, явно преследовавших стадо и погибших вместе с ним1. Может быть, есть еще какая-нибудь причина, почему долина получила такое мрачное название?
...Работать одному на холодном, свирепом Каракуле в совершенно безлюдной местности было рискованно. Однако попутчиков мне найти не удалось. Направлявшаяся в Ош машина биостанции должна была доставить меня к заливу Музкол, для чего надо было сделать крюк в двадцать километров в сторону от тракта. По дороге нам пришлось заехать в поселок Каракуль, что на восточном берегу озера. Тут мне неожиданно повезло: я встретил своего старого знакомого, художника Ивана Кожевникова. Я знал его по прошлому году. Сейчас он писал на Каракуле, пытаясь уловить его непрерывно меняющиеся краски. На мое предложение Иван ответил немедленным согласием. На сборы ушло сорок минут. С местным начальством мы договорились, что за нами через неделю пришлют машину, и выехали к устью Музкола.
22 июня в четыре часа дня мы остались одни перед горой груза на пустынном берегу озера. До устья Музкола машина не дошла; до намеченного места оставалось десять километров. А лагерь надо было разбивать именно у устья Музкола - в этой части озера только там была пресная вода.
Быстро надув лодку, мы погрузили на нее весь груз и медленно двинулись вдоль берега. Я тащил лодку за веревку, а Иван веслом отталкивал ее от берега. Первые два километра мы преодолели легко. Но на Каракуле, как мы потом не раз убеждались, никогда все хорошо не бывает. Ровный песчаный берег кончился, началась подмытая волнами морена. Слабый северный ветер разыгрался не на шутку. Он разогнал крупную волну, и все время старался вышвырнуть лодку на берег. Мы продвигались с черепашьей скоростью, прыгая по мокрым валунам в кипящей пене прибоя. Скоро мы вымокли до пояса и порядком устали. Солнце близилось к закату, холодало. Когда, наконец проклятая морена осталась позади, мы окончательно выбились из сил. А впереди было еще пять километров пути. Устроили остановку. Переодевшись во все сухое и отогревшись на песке, еще хранившем солнечное тепло, выработали новый план. Я объяснил Ивану, как пройти на место нашего будущего лагеря, и он направился через прибрежные холмы напрямик к устью Музкола, захватив с собой часть груза. Я же, сложив пожитки кучей на берегу и оставив в лодке только необходимое для первой ночевки, сел в нее и, работая веслом, как шестом, тронулся вдоль берега.
Когда лодка подплыла к устью Музкола, солнце уже село. Иван, скрючившись, сидел на берегу у воды. Вид у него был неважный. Я вылез на берег, еле шевеля ногами. Трехчасовая борьба с волнами и ветром привела меня в самое жалкое состояние. Слишком большая нагрузка для такой высоты! Надо было срочно ставить палатку, но двигаться не было сил. Вяло переговариваясь, мы решили для начала поесть. Последний раз мы ели девять часов назад. И тут, к нашему ужасу, обнаружилось, что все, абсолютно все продукты я оставил среди прочего груза на берегу, в четырех километрах по прямой от лагеря! На Ивана жалко было смотреть. Ясно, что после сегодняшней передряги он уже никуда больше не пойдет. Да и вина тут главным образом моя. Поэтому Иван остался ставить палатку, а я, мысленно исходя проклятиями (вслух ругаться не было сил), взял курс назад. На четыре километра ушел целый час. Наступила ночь. Черное небо сияло мириадами холодных звезд. Глухо шумящее озеро темнело огромной массой, сливаясь вдали с мраком, окутывавшим горы. Ледяные гребни хребтов опоясывали горизонт тускло поблескивающим кольцом. Во всей этой фантастической и дикой картине было что-то от первозданного хаоса.
Оставленный груз лежал на берегу, темнея резким пятном на светлом прибрежном песке. Озеро, ворча, как огромный зверь, почти доставало его своими волнами. Оно казалось живым, и подходить к нему в кромешном мраке было жутковато. Казалось, что сразу же за линией прибоя начинается бездонная пучина... Однако голод и предельная усталость заглушили все остальные ощущения. Я рухнул на ворох вещей как подкошенный, кое-как негнущимися руками вскрыл банку сгущенного молока и опустошил ее в несколько глотков. Потом я впал в какую-то дремоту, но минут через двадцать страшный холод поднял меня на ноги. Я взвалил на плечи рюкзак с харчами и поспешил назад. Ветер бил теперь в спину, швыряя песок и соленые брызги. Подпираемый ветром, подбодренный съеденной сгущенкой, я развил почти космическую скорость, и только скрытые темнотой выбоины, в которые я временами падал, замедляли мое движение.
Когда я разыскал лагерь, на месте, где должна была стоять палатка, темнело какое-то бесформенное пятно. Оказалось, что обессилевший Иван не смог поставить палатку и, сделав из нее подстилку, улегся сверху в своем спальном мешке... В мешок он влез не раздеваясь, и не удивительно, что, когда я извлек его оттуда, зубы его выбивали какой-то замысловатый танец. Однако это не помешало ему с жадностью накинуться на холодные консервы.
Но вот все готово. Палатка стоит - на том самом месте, где было задумано. Мы на Каракуле. Мы в спальных мешках, согреты, сыты и засыпаем. Ветер стихает. Слабые его порывы еле шевелят палатку, укрытую в глубоком провале среди прибрежных холмов. Слабый плеск волн почти не нарушает величавого безмолвия ночных гор...
Утро было тихое-тихое. Мы проснулись только в десять часов, когда солнце так накалило палатку, что внутри стало трудно дышать. Опасения, что мы надорвались и простудились вчера, прошли разом. Мы были свежи и полны энергии.
К полудню лагерь был готов окончательно. В крутом скате холма задымил вырытый очаг, Иван и я собрали и притащили два мешка кизяка. Другого памирского топлива, терескена, здесь нет: он не растет на этих песчаных холмах, покоящихся на погребенных льдах и покрытых редкой жесткой осокой. Иван установил мольберт и бросил на холст первые пятна красок, я же надул лодку и отправился на разведку к мелким островкам, раскиданным в устье Музкола.
В середине дня задул шторм, продолжавшийся без перерыва трое суток. Хотя этот отчаянный шторм и сбивал мои планы, времени мы не теряли. Иван, в конце концов, наловчился писать при самом ледяном ветре, а мне за эти дни удалось как следует облазить залив и все ближайшие островки. На них было много гнезд юрких тибетских крачек, кое-где попадались даже гнезда горных гусей. Гнезд чаек не было видно нигде, хотя птицы непрерывно вились над головой и принимали активное участие в каждой тревоге, поднимаемой крачками. Остров, на котором я в прошлом году нашел колонию из четырех гнезд этих чаек, почти исчез под водой, от него осталась только верхушка. Но вечерам все буроголовые чайки улетали в сторону острова Южного, и было ясно, что их гнездовая колония находится где-то там. Надо было ждать штиля.

Озеро Каракуль. Штиль в заливе Музкол
Наконец штиль наступил. Глубокая тишина предрассветных сумерек с первыми проблесками зари была нарушена протяжными криками ангыров. Вскоре к ним присоединилось озабоченное гоготанье гусей. Над палаткой то и дело раздавался свист утиных крыльев. Я стал лихорадочно собираться в путь. Ружье, фото- и кинокамеры, катушки с пленками, спальный мешок (на всякий случай), еда на два дня (тоже на всякий случай) - и вот я уже гружу снаряжение в лодку. Озеро и горы скрыты в густом тумане. Вода неподвижна.
Когда взошло солнце, я уже греб вовсю. Туман таял на глазах, поднимаясь клочьями вверх и исчезая в сухом прозрачном воздухе. Лодка шла быстро, за ней тянулся пенистый след, отливавший голубизной в глубоком ультрамарине озерной воды. Солнце поднималось все выше; вскоре оно вынудило меня сбросить полушубок и, отражаясь в водах озера, заставляло щурить глаза. По-прежнему стоял полный штиль. Живописная громада хребта Музкол с закованным в лед зубчатым гребнем четко отражалась в воде. Время от времени я ощупывал борта лодки, проверяя утечку воздуха. Все дыры были тщательно заклеены, но во многих местах ткань прохудилась на сгибах. Остров был уже близко, когда пришлось подкачать в лодку немного воздуха. Чаек пока было видно сравнительно немного. Неужели на острове ничего нет? Тем не менее, я не снижал хода, стремясь попасть на остров до того, как поднимется ветер.
Ветер поднялся, когда до острова оставалось метров триста. Шторм был уже не страшен - лодка успела войти в полосу «ветровой тени», под прикрытие острова-горы. Тщательно разглядывая пустынный берег, я вдруг обнаружил перед островом небольшую гриву, торчащую из воды,- маленький островок, отделенный от Южного небольшим проливчиком. Над островком летало несколько чаек, а по верхушке его, усеянной большими камнями, тянулась странная белая полоса. При моем приближении эта полоса белым облаком взметнулась в небо. Меня охватило ликование. Вот она, настоящая большая колония буроголовых чаек!
Теперь торопиться было нельзя. Я приготовил кино- и фотокамеры и стал медленно приближаться, почти не шевеля веслами. Лодка шла к мысу островка, выдававшемуся в сторону Южного. Когда до берега оставалось метров десять, я вдруг увидел прямо перед собой гнездо горного гуся. Гусыня уже приподнялась с него и, вытянув шею, с изумлением взирала на лодку. Потом она медленно пошла прочь, то и дело оглядываясь. Заработала кинокамера. Чайки, взлетевшие было при моем приближении, опять уселись, и только несколько штук кружилось надо мной с хриплыми криками «крааа... краа...». Вся куча их вновь взмыла вверх, как только я ступил на землю.
Островок был небольшой, около семидесяти метров в длину, а в самом широком месте имел в поперечнике не более тридцати шагов. Голая почва была усеяна крупными камнями, покрыта птичьими перьями и пометом. Весь вершинный гребень островка покрывали гнезда чаек. В некоторых местах гнезда сидели так тесно, что невозможно было определить, где кончается одно гнездо и начинается другое. Многие гнезда были построены на совесть и возвышались над землей плотными платформами, другие же представляли собой беспорядочно набросанные кучи стеблей. Строительный материал, хоть на острове и не было растительности, валялся рядом. Гряда полусгнивших стеблей терескена, злаков, различных водных растений тянулась вдоль прибойной линии. Вокруг колонии чаек кольцом располагались маленькие гнезда тибетских крачек и крупные гнезда горных гусей. На островке было тепло даже в самый ледяной шторм: каменная громада острова Южного надежно закрывала его от холодных северных ветров, ежедневно врывающихся в котловину с ледяных гор Заалайского хребта.

Озеро Каракуль. Колония буроголовых чаек
Пока я осматривал колонию, чайки подняли невообразимую суматоху. Часть их, вместе с гусями, расселась на воде неподалеку, ожидая видимо, когда я покину их владения, другие, более нетерпеливые, кружились надо мной, хрипло крича. То одна, то другая птица внезапно кидалась на меня, как бы собираясь ударить, и со свистом проносилась в нескольких сантиметрах от моего лица. Почти во всех гнездах лежало по два-три крупных пестрых яйца, а кое-где уже копошились пушистые комочки - только что вылупившиеся птенцы. В одном гнезде мое внимание привлекло яйцо, как видно, только что расколовшееся пополам. Оттуда постепенно выкарабкивался мокрый еще птенчик. Было ясно, что в колонии началось массовое вылупление птенцов.
Закончив осмотр острова, я отошел от колонии метров на десять и залег в камнях, чтобы понаблюдать за чайками, когда они успокоятся.
Минут через десять птицы угомонились и заняли свои гнезда. Большая часть продолжала прерванное насиживание, а там, где уже появились птенцы, родители стояли над гнездами, затеняя еще не окрепшее потомство от безжалостных лучей памирского солнца. Часть чаек потянулась к устью Музкола на кормежку. В колонии воцарилась относительная тишина, иногда только одиночные птицы проносились над моей засадой с хриплым угрожающим криком, да временами из центра колонии доносились странные клокочущие звуки, напоминающие весеннее бормотание тетеревов.
Я лежал в камнях на теплой земле, орудовал фото- и кинокамерами и делал записи в блокноте. Повышенный интерес мой к этим чайкам был вызван тем, что до сих пор среди зоологов шел спор, считать ли буроголовую чайку подвидом обыкновенной чайки или совершенно самостоятельным видом. Для решения этого спора надо было изучить биологию этих птиц, почти совершенно неизвестную, собрать яйца, пуховых птенцов и птенцов в первом перьевом наряде, в так называемом птенцовом пере. Нашу обыкновенную чайку я знал хорошо. И сейчас, слушая грубые, глухие голоса буроголовых чаек, наблюдая их полет, пестро раскрашенные широкие и тупые крылья, глядя на весь окружающий их своеобразный мир высокогорного озера, я все больше приходил к убеждению, что передо мной совершенно особый вид.
В середине дня работа была закончена: взяты образцы кладок яиц (они значительно крупнее и совсем по-другому раскрашены, чем у обыкновенной чайки), пуховой птенец, измерены, зарисованы и сосчитаны гнезда, израсходованы все катушки кино- и фотопленки...
Прежде чем возвращаться домой, надо было еще осмотреть сам остров Южный. Меня не покидала надежда найти здесь гнездовья бакланов; группы этих птиц все время пролетали взад и вперед. Сам остров - небольшая двуглавая вершина, сложенная из рыхлых пород желтого и бурого цвета. Много песка, на крутых склонах одна над другой тянутся на высоте десятков метров над водой древние волноприбойные линии. По ним видно, что, когда озеро имело максимальные размеры, только самая верхушка острова торчала из воды. Остров пуст. Кое-где торчат редкие кустики терескена, белеют расклеванные воронами гусиные яйца: очевидно, с этого острова вороны выжидают удобный момент и крадут яйца. Отсюда, кстати, видно, как гуси спешат к своим гнездам. И никаких признаков бакланьих гнезд. На Памире все очень хорошо сохраняется, и, если бакланы гнездились здесь даже десять лет назад, остатки их гнезд, несомненно, уцелели бы. Итак, бакланы в этой части озера не гнездятся.
Лодка отчалила от острова около четырех часов дня. Обратно можно было двигаться старым путем, прямо через плес, по ветру или же, преодолев неширокий пролив между островом и коренным берегом, плыть под защитой берега к лагерю, огибая многочисленные мысы и заливы. Такой путь втрое длиннее, но вид открытого плеса, который я утром пересек, был страшен. Северный ветер разгулялся вовсю, срывая пену с крутых волн; в этой свистопляске ничего не стоило перевернуться. Я избрал второй путь. Он действительно был долог и утомителен, но совершенно безопасен. Поскольку силы были уже на исходе, после каждого часа гребли приходилось делать долгие остановки. Под прикрытием одного из крутых мысов на берегу удалось собрать несколько обломков кустов терескена, разогреть консервы и поесть. От нестерпимого блеска солнца и воды, свиста ветра, качки и изнурительной гребли я совершенно одурел, глаза болели и слезились, обожженную кожу на лице и руках стянуло, как сохнущей мыльной пеной.
Когда до лагеря оставалось километра три, лодка неожиданно вошла в тихую, укромную бухту с тремя маленькими островками. Там оказалось несколько гнезд горных гусей, причем в одном уже вылупились птенцы. При моем приближении четыре желтых, пушистых шарика поспешно попрыгали в воду, и мать повела их на берег прятаться в густую бурую осоку. Бухта была очень тихая, сюда даже ветер не залетал, и я с наслаждением растянулся в осоке, едва не задремав под шум бурного озера и крики крачек.
...Лодка подошла к лагерю на закате. На вершине холма со своим мольбертом стоял Иван. Силуэт его на фоне багрового неба был поистине фантастичен. Увидев лодку, он радостно замахал руками и кистями, но работу не прервал: сейчас ему была дорога каждая секунда.
Штормовые ветры сильно досаждали художнику, но он наловчился работать и при них. Особенно рьяно он писал на закате и восходе, когда небо и горы расцвечивались самыми невероятными красками, заставлявшими думать об иных планетах. В полушубке, закутанный по уши, он громоздился у мольберта, укрепленного камнями, и быстро бросал на холст мазок за мазком. Ему удавалось схватить многое. С каждым этюдом краски становились все сочнее и натуральнее, а некоторые этюды были, на мой взгляд, просто великолепны. Только одна вещь у него никак не получалась - вода Каракуля. Озеро меняло свой облик непрерывно, и уловить мгновение в этом непрерывно меняющемся потоке красок и навечно закрепить его на холсте серией точных мазков было почти невозможно. Вообще Иван произвел на меня неотразимое впечатление. До сих пор мне еще не приходилось встречать художников, работавших на этюдах в таких условиях, в разреженном, иссушенном до предела воздухе, на обжигающем ледяном ветру...
Неделя пролетела быстро. Машина пришла за нами точно в срок, а через час езды мы уже были в поселке Каракуль.
В тот же день я познакомился с начальником Каракульской метеостанции, в распоряжении которого, как, оказалось, имелась превосходная дюралевая лодка с сильным подвесным мотором «Москва-2». Он жил здесь с семьей уже несколько лет и хорошо знал восточную часть озера. Вечером мы сидели в маленькой уютной комнатке метеостанции, чокались слабо разведенным спиртом, жевали жареную архарину и степенно рассуждали об охоте и рыбалке. Начальник метеостанции был страстным любителем того и другого, но при этом не имел ни малейшего представления о правилах охоты и искренне считал, что в Каракуле рыбы нет. Я рассказал ему, что в Каракуле рыба есть, но только в двух местах - в устьях Музкола и Караджилги, впадающей в озеро в северной его части. Это самые крупные из впадающих в озеро речек, вода в них имеется более или менее регулярно, и рыба может жить в опресненных ими приустьевых водах.
Особенно я упирал на Караджилгу: было очень заманчиво побывать в северной, наиболее труднодоступной части озера и осмотреть там группу островов.
Каракульская рыба настолько заинтриговала начальника, что он решил завтра же ехать на рыбалку вместе со мной. Эта поездка, правда, чуть было не закончившаяся крупной аварией, очень помогла мне в дальнейшей работе на озере.
Утро было ясное и тихое. Дюралевый корпус катера сиял под лучами солнца. Мотор взвыл с первого рывка и быстро развил отличную скорость. Мы неслись по неподвижному, застывшему озеру, мирно дремавшему в великолепном обрамлении снежных хребтов. Вода казалась абсолютно прозрачной, но разглядеть внизу ничего не удавалось - там, глубоко, ультрамарин переходил в черную глубину. Временами нам встречались плававшие по поверхности длинные нити водных растений. В одном месте мы прошли очень близко от группы ангыров. Три ярко окрашенные птицы медленно покачивались на синем зеркале воды.
Восточный плес мы пересекли менее чем за час, войдя в пролив между Северным островом и материком. Как только мы вышли из ветровой тени последнего мыса на главный плес, в лицо ударили брызги и ветер. Катер, задирая нос, круто забирался на очередную волну и затем с размаху падал на следующую, громко шлепаясь при этом о воду плоским днищем. Тучи брызг мгновенно вымочили нас с головы до ног.
Хозяин катера в ответ на мои тревожные взгляды только посмеивался. Ловко маневрируя катером, он старался срезать гребни наискось. Однако шторм усиливался, волны росли, и скоро стало ясно, что нам сегодня до устья Караджилги не добраться. Впереди, совсем недалеко, высилась группа островов. Еще минут двадцать отчаянных прыжков с волны на волну, резкой качки в реве ветра и тучах больно секущих брызг - и вдруг все стихло: катер ворвался в ветровую тень первого острова и мирно закачался на небольших волнах. Корпус мягко стукнулся о берег, мотор замолк.
Здесь, с подветренной стороны, было тихо, а главное, тепло. Порядком продрогшие, мы с удовольствием растянулись на нагретом солнцем крутом склоне и блаженно продремали с полчаса под ровный шум озера. Чистое небо постепенно затягивало пылью; из глубоко-синего оно стало каким-то серо-желтым.
В тишине подветренного берега мне показалось было, что ветер начал стихать; но, отправившись на разведку острова и выйдя на вершинный его гребень, я понял, что заблуждался: шторм бушевал по-прежнему.
На другом конце острова мы увидели четыре гнезда горных гусей с сидевшими на них гусынями. Птицы заметили нас и опрометью бросились к воде. Метеоролог, совершенно неожиданно для меня, вдруг вскинул ружье, и я еле успел дернуть его за локоть. Дробовой заряд поднял пыль метрах в десяти перед первым гнездом. «Ты что, обалдел? - заорал я,- на гнездах?!» Стрелок озадаченно уставился на меня - и вдруг понимающе кивнул головой: «И то верно, они же сейчас тощие, мясо что дерево!»
Мы позавтракали под тем же подветренным берегом и решили трогаться обратно: уж очень разгулялось озеро. Мой гид отлично знал все острова вокруг и на каких из них есть гусиные гнезда. «А вон там,- он ткнул пальцем в чернеющие недалеко, у коренного берега, островки,- на том, который поменьше, чаек - навалом! Ну, мы близко подойдем, покажу!»
Отплыв от гостеприимного берега, мы направились к северному мысу большого острова, чтобы обойти остров вокруг. Здесь, среди больших островов, ветер не мог разогнать большой волны, и мы добрались до мыса довольно спокойно. От острова с чайками мы прошли метрах в двухстах. Самой колонии не было видно, но чаек здесь летало гораздо больше, чем где-либо на нашем пути. Я с радостью заметил, что пролив, отделяющий остров от берега, имеет в ширину не более ста пятидесяти метров. Значит, сюда можно попасть с берега в любой шторм.
Катер завернул за мыс Северного острова, выйдя на малый плес, и некоторое время шел вдоль берега, защищавшего нас от ветра. Неожиданно мы увидели группу линяющих крохалей, отдыхавших на берегу. Летать они не могли совершенно. Часть их кинулась удирать по воде, то и дело, ныряя, а оставшиеся, неуклюже переваливаясь, побежали вдоль прибоя по берегу, прячась за большими камнями. Одного из удиравших по воде мы быстро настигли, и я некоторое время в упор «расстреливал» его из кинокамеры.
Наконец, резко взяв влево, катер тронулся прямиком через бушующее озеро, держа курс на поселок, еле видный отсюда,- кучку белеющих пятнышек на берегу. Без удержу разгулявшийся ветер гнал большие валы, раз за разом осыпавшие нас белой пеной брызг. Ветер теперь был попутный, но опасность перевернуться от этого ничуть не уменьшилась. Время от времени мы седлали очередной пенящийся вал и на его вершине стремительно мчались вперед. Иногда катер попадал в такую толчею волн, что терял управление. Его разворачивало боком к волне, которая яростно била в борт и ставила судно чуть ли не на ребро. Дважды глох мотор, но, к счастью, его тут же удавалось завести вновь. Я перетрусил не на шутку. Конечно, сам корпус катера с двумя герметически закрытыми отсеками-поплавками был непотопляем. Но если бы мы перевернулись, конец был бы быстрый: мы не смогли бы продержаться и получаса в этой ледяной горько-соленой бурлящей воде.
Когда мы добрались, наконец, до берега, мне было очень неловко за свой испуг. Однако, как оказалось позднее, страх мой был не напрасен. Вскоре, после того как я покинул Памир, мой спутник ушел на катере в озеро с одним приятелем - и не вернулся. Шторм выкинул на берег непотопляемый катер, перевернутый вверх дном,- пустой катер, без людей...
Чтобы полностью закончить сбор материала по гнездовой жизни буроголовых чаек, мне необходимо было вернуться на Каракуль не позже чем через месяц. За это время птенцы чаек должны были подрасти и сменить свой первый пуховой наряд на так называемое гнездовое оперение. Окраска такого оперения - немаловажный систематический признак, который мог пролить свет на родственные связи вида. Поэтому в конце июля я снова был на Каракуле.
На этот раз попутчика найти не удалось. Я был один. Приходилось рассчитывать все чрезвычайно точно и брать с собой минимум груза - только то, что я смогу унести, и унести далеко, на своих плечах. В этот необходимый минимум входили пятнадцатикилограммовая резиновая лодка, ружье, кино- и фотокамеры, а также провиант на три дня; места для спального мешка и прочих одеял и тулупов, разумеется, не оставалось. О палатке и говорить нечего. Это означало, прежде всего, холодную ночевку на Каракуле - вещь весьма мучительная даже в конце июля. Но другого выхода не было.
И вот я вновь на берегу залива Музкол. Вечерело, северный ветер бушевал с особенной силой. Водитель машины, на которой я приехал, с сомнением поглядев на бурное озеро и безмолвные хребты вокруг, только покачал головой и, сочувственно пожелав «ни пуха», нажал на стартер. Машина ушла. Нужно было позаботиться о ночлеге. Я решил устроиться на ночевку в глубоком овраге, выбрав наименее продуваемое место. Совсем безветренного участка отыскать не удалось. Облюбовав место, я вырыл крутом склоне оврага небольшой очаг и все оставшееся до темноты время потратил на сбор топлива. Редкие кусочки кизяка, еще более редкие кустики терескена - всего этого удалось собрать небольшую кучку, которой могло хватить часа на два.
Берега озера были пустынны. Редкие чайки пролетали над линией прибоя, на самом берегу в пене набегавшей волны бродило несколько куликов. Горы вокруг выглядели совершенно мертвыми. Уже на закате картину несколько оживила небольшая группа архаров. Их было штук семь. Они сошли с пологого склона ближайшего хребта метрах в пятистах от меня и, пощипывая скудную траву, медленно тронулись к устью Музкола на водопой.
Стемнело. Ветер не утихал. Разжечь очаг и согреть банку тушенки было делом недолгим. Поев, я долго еще лежал вплотную к очагу, стараясь впитать тепло весело пляшущего огня. А когда, потрескивая, стала догорать последняя порция топлива, я поспешно, стараясь не растерять тепло, забрался в надутую предварительно лодку и постарался заснуть раньше, чем успел бы замерзнуть. Расчет состоял в том, что спать после тяжелого дня я буду крепко и холод поднимет меня на ноги только к утру. Однако расчетам моим не суждено было осуществиться.
Заснуть мне действительно удалось быстро. Однако среди ночи я проснулся оттого, что надо мной кто-то тяжело и шумно дышал. Не нужно быть особенно слабонервным, чтобы слегка струхнуть в такой ситуации. Мне было хорошо известно, что в радиусе тридцати километров вокруг нет ни одного человека, а, следовательно, и домашнего скота. Дикие же звери боятся запаха человека и сами ни за что к стоянке не подойдут, разве уж будут очень голодны. Но сейчас лето, время отнюдь не голодное. И, тем не менее, судя по дыханию, какой-то очень крупный зверь стоял над лодкой и шумно принюхивался. На всякий случай у меня с вечера лежало под боком заряженное ружье. Пытаясь осторожно, без шума, его вынуть, я в то же время силился разглядеть в полной темноте непрошеного гостя. Стараясь не дышать, я повернул голову и вздрогнул - над лодкой нависло что-то огромное и уродливое. Честно признаться, у меня мелькнула мысль, что это наша неуловимая мечта - сноумен, сиречь, снежный человек нанес мне столь поздний визит. Мне даже показалось, что он вытягивает вперед руки, чтобы броситься на меня. Я стремительно вскочил, одновременно взводя курки. Громадная темная масса испуганно шарахнулась вверх по склону оврага, обрушивая потоки щебенки. Две такие же фигуры ударились в бега немного поодаль. А я уже сидел у потухшего очага и, еле переводя дух, утирал со лба холодный пот. Верблюды! Эти нелепые животные бродят по долинам Памира совершенно безнадзорно, и не я первый сделался жертвой их тупого любопытства.
Было только три часа ночи. Темень и холод. Ветер бушевал по-прежнему, и озеро глухо шумело внизу, как гигантский кипящий котел. Я стал судорожно прыгать на месте, чтобы согреться, но холодная дрожь не унималась. Пришлось вылезти из оврага и, спотыкаясь на каждом шагу, пойти собирать топливо - почти бесполезная затея в такой темноте. Испуг, вызванный визитом верблюдов, еще не прошел, и я взял с собой ружье, которое, в общем-то, было ни к чему и только мешало. Тем не менее, мне удалось набить карманы штормовки какой-то топливной мелочью, и вскоре я уже старательно поджаривал свои бока и живот над крохотным пламенем очага.
Заснуть больше не удалось. Мешал лютый холод и тревога: было ясно, что ветер утром не уляжется. Когда взошло солнце, правда, стало как будто потише, и я поспешно спустил на воду лодку. Кое-как с большим трудом мне удалось отплыть от берега на какие-то двести метров, но ветер опять усилился, и, несмотря на мое яростное сопротивление, лодку стремительно понесло к берегу...
Оставался второй вариант. Я еще заранее решил, если остров Южный окажется недостижим, пробираться на северный берег озера и там штурмовать колонию, показанную мне метеорологом: она близко от берега, и туда можно проникнуть в любой шторм.
Чтобы как-то восстановить силы, я проспал на солнцепеке несколько часов. Потом навьючил на себя весь скарб и тяжело побрел к тракту. Не буду описывать свой путь... Выйдя на тракт после пятнадцатикилометрового перехода, я был весь мокрый от пота. Почти сразу же меня подхватил порожний бензовоз. Через час мы обогнули озеро, и я расстался с приветливым водителем в том месте, где, по моим расчетам, тракт ближе всего подходил к озеру.
Однако идти пришлось не менее пяти километров, и до желанного пролива удалось добраться только к пяти часам вечера. Приходилось спешить. Надутая за десять минут лодка заплясала на крутой волне. Ветер дул во всю мочь, неся тучи песка и пыли. Покуда я преодолевал узкий пролив между берегом и островом, лодку стремительно сносило к открытому плесу, но уже через несколько минут она вошла в ветровую тень и тихо подчалила к берегу.
Тщательно привязав лодку веревками за огромный валун, я осторожно тронулся вперед. На этом острове чаек не оказалось, но они уже тревожно летали вокруг, и было ясно, что колония находится на следующем острове. Зато здесь я натолкнулся на целое стадо линных гусей. Их было штук пятнадцать. Они в ужасе кинулись удирать от меня, грузно плюхаясь в воду. Летать гуси не могли: маховые перья на крыльях были еще в кисточках. Острова разделял мелкий проливчик, вполне переходимый вброд. Преодолеть его было делом одной минуты, и тут по яростным атакам десятков чаек, налетавших с хриплыми криками, я понял, что цель близка. На острове располагалась колония буроголовых чаек, не менее, если не более, крупная, чем на острове Южном. Все птенцы уже покинули гнезда и свободно разгуливали по острову. При моем приближении чайки согнали птенцов в две большие кучи. Одна из них, окруженная эскортом из взрослых птиц, успела отплыть от берега и качалась на волнах с подветренной стороны, метрах в сорока от берега. Вторая же группа, которую я прижал к наветренному берегу, еще копошилась на суше. Взрослые чайки прямо насильно сталкивали птенцов в кипящий среди камней прибой. Некоторых волны сразу же выбрасывали обратно. Тем не менее, вскоре все они оказались в воде и, все так же окруженные взрослыми, стали медленно выгребать против ветра.
Пора было приниматься за дело.
Среди прибрежных камней удалось разыскать трех птенцов; я взял их в коллекцию. Птенцы были уже довольно крупные и как раз в том самом наряде, который был нужен. Затем скрепя сердце пришлось застрелить еще трех взрослых птиц для шкурок и анализа пищи. Было крайне интересно узнать, чем питается такое количество чаек на озере, почти совершенно лишенном рыбы. Впоследствии оказалось, что пищеводы и желудки как взрослых птиц, так и птенцов были буквально набиты сотнями взрослых ручейников, своеобразных водных насекомых. Кроме них значительную роль в питании чаек играют рачки-бокоплавы, которых здесь зовут бармашами. Их довольно много на Каракуле. Судя по упитанности старых и молодых птиц, такой корм был им на пользу и водился в водах озера в достаточном количестве.
В самом конце работы на острове я наткнулся на затаившегося в камнях подраненного гуся (видимо, работа метеоролога), погнался за ним и, уже схватив было, упал, сильно разбив себе колено о камень. Только этого мне и не хватало - после бессонной ночи и сильного физического напряжения я и так еле держался на ногах.
Пора было возвращаться. Тщательно уложив в рюкзак добычу и снаряжение, я кое-как взвалил его на плечи и, сильно хромая, потащился назад, к лодке. Солнце уже цеплялось за гребень Музкола, и надо было поторапливаться. Между тем ветер перешел в настоящий ураган. Лодка, привязанная к камню крепкими длинными веревками, трепыхалась по ветру, как вымпел на флагштоке.
Добираясь до острова, я плыл почти по ветру. Теперь же предстояло выгребать против ветра, что представлялось делом совершенно безнадежным. А если выгрести не удастся, меня снесет в открытый плес - и тогда конец... Конечно, можно было подождать конца бури, но ведь такие ветры иногда длятся неделями! А из провизии у меня оставались только банка сгущенного молока, десятка полтора сухарей и литровая фляга воды. Задумавшись, я хотел было сделать из нее глоток, протянул руку - и похолодел. Фляга была пуста! Тщательное исследование обнаружило маленькую дырочку в ее днище. Дело принимало плохой оборот: без воды долго не высидишь. Приходилось рисковать.
Спущенная на воду лодка заплясала на волнах, как поплавок, и никак не хотела отрываться от берега, куда ее прижимало ветром. Пришлось налечь на весла изо всех сил, и вдруг раздался легкий треск - треснуло весло. Это уже пахло бедой. С таким веслом нечего было и думать плыть против ветра. Лодку, конечно, сразу же выкинуло на берег. Оставалось, оттащив ее от воды, положиться на судьбу и ждать. Кажется, тут я впервые пожалел, что не прибег вновь к помощи метеоролога. Но уж очень не хотелось иметь дело с этим ярым браконьером.
Об этой ночи лучше не вспоминать. Она тянулась и тянулась без конца. Топлива на острове почти не было. Кое-что удалось собрать вдоль прибойной линии, и эта горсточка сгорела за полчаса. Собачий холод не давал не то что спать, а просто сидеть неподвижно. Когда взошло солнце, я был еле жив. Шторм бушевал по-прежнему. Так же настойчиво били в берег волны, так же уныло свистел ветер. Чайки иногда пролетали поблизости, умудряясь что-то высматривать и выхватывать из кипящей пены волн. Нельзя было не залюбоваться, глядя на их стройные тела и уверенные движения. Среди бушующей стихии они, казалось, не испытывали ни малейшего беспокойства.
Днем с подветренной стороны острова было настолько тепло, что я без помех проспал несколько часов. Сон сильно ободрил меня, но теперь ужасно захотелось пить. На закате жажда стала невыносимой. Вспомнив опыты Бомбара по поглощению морской воды, я попытался выпить немного каракульской водицы. Мне удалось, не переводя духа, сделать с десяток глотков, но меня тут же жестоко вырвало. Тем не менее, стало как будто легче.
Темнело. Ни чаек, ни гусей больше не было видно. Потревоженные моим вторжением, они, видимо, перебрались на следующий остров, возвышавшийся метрах в пятистах дальше. Часов около одиннадцати, в полной тьме, когда шторм ревел по-прежнему, на меня опять напал страх. Было, похоже, что ветру не будет конца. Я решил, дождавшись рассвета, лечь в лодку и плыть самосплавом по ветру через открытое озеро к поселку. Авось донесет! Но к середине ночи шторм вдруг начал стихать. Сначала я даже боялся этому верить, но он унимался на глазах, и грозный рокот прибоя превращался в ласковый плеск. Надо было спешить. Спотыкаясь и падая в темноте, я столкнул лодку на воду и через каких-нибудь пятнадцать минут оказался на коренном берегу. Все! Вырвался! Теперь-то уж все будет в порядке!
Надо было как можно скорее выбираться к тракту: вторые сутки без воды, в сухом, разреженном воздухе - это не шутка. Однако возникло новое осложнение: как быть с грузом? Я не мог унести его сразу - силы мои ослабли, а разбитое колено болело. Пришлось разбирать груз на две порции и постепенно перетаскивать к тракту. Такая метода в три раза удлиняла путь, но иного выхода не было. Идти приходилось вверх, правда, по очень пологому склону с твердой, усыпанной мелкой щебенкой почвой. А ночь стояла на диво тихая, и звездное небо так сияло, что просто невозможно было впадать в уныние. Я держал направление на громадную снежную шапку горы, возвышавшейся километрах в сорока отсюда. Где-то недалеко мой курс и тракт должны были скреститься.
Около четырех часов ночи, застонав от удовольствия, я свалил последнюю порцию груза у обочины и сам растянулся поверх него. Однако жажда, пересилив усталость, подняла меня на ноги и погнала вниз по тракту в поисках воды. Но вблизи ее нигде не оказалось.
Скоро вдалеке замелькали фары, и минут через десять мимо меня промчался лесовоз. Он не остановился, хотя шофер отлично видел меня, мой груз и поднятую руку. По памирским нормам это было беспрецедентным хамством. Приступ ярости еще не успел пройти, как вновь показался свет идущей машины. На этот раз я вышел на самую середину дороги и замахал руками, как ветряная мельница.
Выпив весь запас чая из термоса водителя, я сладко заснул в углу кабины, разморенный теплом. В Каракуль мы приехали на рассвете. Над озером поднимался легкий туман. Стоял полный штиль. Далекие снежные гребни Музкола и Заалайского хребта уже розовели в рассветных лучах. Озеро лежало неподвижное, безмятежно-синее, такое спокойное и ласковое, и просто не верилось, что всего несколько часов назад оно держало меня в смертельных объятиях...
|
ПОИСК:
|
© ORNITHOLOGY.SU, 2001-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://ornithology.su/ 'Орнитология'
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://ornithology.su/ 'Орнитология'